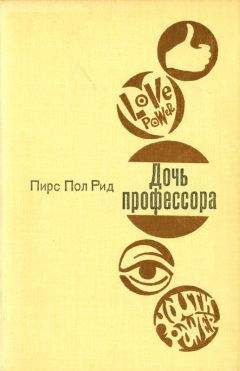Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]
Марийка подошла к тете Дуне, та обняла ее, прижала к плоской груди и повела в хату.
— Ось, ще тэпле, поснидай, моя доню.
На столе, рядом с большой хлебиной, покрытой рушником, стояла медная кварта, до краев наполненная густым, палевого цвета, молоком. Тетя Дуня откинула рушник, взяла хлебину, большим ножом, так что вкусно хрустнула розовая корочка, откраяла горбушку. И все это — хруст хорошо пропеченного ржаного хлеба, его здоровое, дразнящее дыхание, смешанное с запахом теплого парного молока, утреннее солнце, бьющее в окно, источающие тихий добрый свет глаза тети Дуни — было продолжением того счастья, с которым она вступала в новый день, и Марийку уже благодарно подмывало приняться за дела, столь же интересные для нее самой, сколь и нужные для тети Дуни.
— Спасибо вам, тетя. Тетя, что будем делать?
— Э, доню! Что ж нам с тобой робыть, коли не пичь топить. Чугуны с картошкой стоят в печи, отварим — и в цебер ее, потолчем на кумячку — йндло для скотины. От печи, доню, все хозяйство идет. Э, доню, коржи будем печь с маком. Хочешь коржи с маком?
— Хочу, тетя!
— Беги до Дениса-косолапого, потолчи мак в ступе.
Это для Марийки не работа, а одно удовольствие. Но до того Марийка и в погреб нырнет — поставит глечики с молоком, тете Дуне трудно при ее хворобе; и на огород сбегает — нащиплет фасольки, которая поспелее, вырвет бурячка, морковки да луку на борщ; и табак попасынкует — дядя Артем наказывал. Летает Марийка, как бабочка, и песенки поет, знает: ей еще мак в ступе толочь.
И вот наконец-то идет Марийка к дядьке Денису с покрытой рушничком полумиской мака. И ложку тетя Дуня дала, чтобы, боже упаси, не руками мешать. Идти недалеко — через хату, только бы хозяин дома был: Денисовой жинки, тетки Мелашки, Марийка почему-то побаивалась.
Она вошла во двор и тут же увидела дядьку Дениса. Он ходил вокруг запряженной брички, оглядывал ее, видно собрался в район по колхозным делам, и при этом странно приволакивал ногу — оттого и укоренилась за ним на селе прозвище Денис-косолапый. Марийка встала поодаль со своей мисочкой, робко глядя на него, ожидая, когда он ее заметит.
— А, Марийка пожаловала! — наконец обратил на нее внимание дядька Денис. — Чего тебе?
— Маку потолочь…
— А, маку потолочь! — будто бы удивился дядька Денис, продолжая оглядывать бричку, что-то подвязывая в ней и поправляя. — Маку, говоришь, потолочь. Да-а… Небось коржи тетка Дуня затевает?
— Коржи…
— С маком?
— С маком…
— О, це гарна штука! А пригласишь на коржи с маком?
Марийка потупилась, краска прихлынула к щекам — на этот счет указаний тети Дуни не было… Но дядька Денис решил, что довольно помучил девочку. Прокопченное зноем лицо его разошлось в улыбке, обдавшись частой сеткой белых полосок — скрытых доселе морщин.
— Ну иди, толчи.
— Спасибо!
Марийка кинулась в сенцы хаты — здесь в прохладном полусумраке с пристоялым мучным запахом была ступа.
Во всех Сыровцах у одного дядьки Дениса была ножная ступа. Уж на что Артем Соколюк был хозяин и мастер — и сечкарню смастерил: закладывай в нее бурячную и прочую ботву, крути ручку — весь огород пересечет; и просодерка, и веялка своя, а ножной ступы нет. Может, оттого и нет, что механика эта, считай, от первобытных времен дошла, зазорно же признанному на три села умельцу повторять азы прапрадедов. И так уж велось: ни у кого в Сыровцах нет ножной ступы, а все Сыровцы бегают к дядьке Денису то мак, то пшено, то сушеные груши толочь, и бегают в основном ребятишки — это для них услада. Из-за них, наверное, и терпел дядька Денис ступу. Сколько говорила ему Мелашка: «Выкинь ты эту дыбу, все сени занимает!» А он в ответ: «Хай стоить — детям забава».
Марийка первым делом — к самой сердцевине сооружения — выдолбленной из целого древесного ствола ступе, покоящейся в конце мощного деревянного основания. Вынула из нее толкач, посмотрела, чиста ли, высыпала в ступу мак, снова вставила толкач в дырку. Теперь — босыми ножонками на ровно стесанное бревно, дергающее вверх-вниз толкач. И пошло — как на детской игровой площадке: качайся на бревне, а толкач — в ступу да из ступы — «бух-к, бух-к…». Спрыгнула, вынула толкач, соскребла ложкой осевший на стенках ступы мак, сгребла на серединку — и опять на бревно: «бух-к, бух-к, бух-к». Прохладно в сенях, гладко бревно, хорошо качаться, в дверях хаты — весь двор дядьки Дениса, залитый солнцем, вверх-вниз ходит. Да ведь и работа — Марийка сама мак толчет. Ах, сердечко заходится: «бух-к, бух-к, бух-к». Жаль, маку мало.
Прибежала домой, подает тете Дуне полумисочку с толченым маком:
— Тетя, хорошо я потолкла?
Та сняла с посудины рушничок, подцепила ложечкой темной жирной кашицы.
— Ой, добре потолкла, моя панночка.
А Марийка и рада-радешенька. Уже нашла себе новое дело — ослон мыть. Как же, вся кухонная работа идет на нем: чугуны вынимаются из печи — на ослон, приправа к борщу — на ослоне сечется. У тети Дуни об ослоне особая забота. Кончилась стряпня — горячей водичкой промыть, ножичком отскрести, чтобы дерево было как желток и чтобы ни одной заусеницы. По вечерам здесь же, за ослоном, тетя Дуня с Марийкой коноплю да лен прядут, а из очесов вал валят — нить для рядна.
Но до вечера еще далеко.
«Эгей! Эгей! Эгей!» — раздается на улице. В солнечном блеске, в зное, в золотой пыли плывет, дрожит коровий мык, несутся от хат зазывные крики женщин, встречающих стадо.
В Сыровцах все коровы карей масти, отсюда и у тетки Дуни корова — Кара. Но Кара — это и кара господня, потому что ни у кого в Сыровцах нет такой своевольной и злой животины. Вот оно входит в отворенную Марийкой калитку — горячее, красно-коричневое чудовище с огромными рогами, пудовое желтое вымя тяжело колеблется в оплетке вен. С требовательным ревом Кара идет в хлев, не глядит на тетку Дуню, семенящую возле нее с двумя ведрами в руках — в одно молоко доить, в другом теплая водица, чтоб вымя помыть: не дай бог, потрескаются соски — Кара стойло разнесет. Встала Кара в стойло и, пока тетка Дуня готовит ее к дойке, угрожающе поводит головой, глядит кровавыми глазами на дверь — требует к себе Марийку. Чудо! Одна Марийка, птичка-невеличка, способна укротить Кару.
— Иди ж, доню! — зовет ее тетка Дуня. — Подойник расшибет, ни як не стоить, клята нечисть!
Увидев в дверях Марийку, Кара вытягивает к ней большую, обвисшую зыбкой кожей шею, с облегченным вздохом кладет ее на перекладину.
— Кара, Кара, — подходит к ней Марийка.
Кара снова вздыхает, прикрывает глаза, и Марийка начинает чесать ей белое пятно на плоском лбу, между рогами. Сладкий озноб проходит по всему большому телу Кары, она затихает, и с краев ее рта свисают две блаженные нитки слюны. Нежное прикосновение детских ноготков сразило грозную Кару, которой никто не указ — ни хозяйка тетка Дуня, ни лютые на расправу пастухи. А между тем в подойник дзекает молоко.
Вот за это молоко — три ведра в день, — за это густое, как сливки, диво и терпят Кару Артем Соколюк с жинкой. Правда, тетка Дуня, по сельскому обычаю, никогда не хвалит свою корову, а когда идет из хлева с тяжелым, покрытым марлею ведром, тетка Ганна, соседка, с завистью глядит через тын.
— Подоила, Дуня? Не дарма кормите свою Кару, добряче дае.
Тетка Дуня пуще смерти боится «сглаза».
— Ой, та що там от моей Кары молока, тильки мýка одна.
— Карай, боже, повики такою мýкой. — Тетка Ганна поджимает губы и отходит от тына.
А на улице уже снова собирается стадо. Марийка выгоняет корову со двора, пастух, увидев Кару, каменеет лицом, издали машет на нее длинным хлыстом. Кара оборачивается, глядит на него красными глазами, будто хочет сказать: «Помаши, помаши, коль жить надоело!» — и спокойно становится в ряды, бредущие за околицу, в поле.
И тут над другим соседским тыном Марийка замечает несколько одинаково светлых головенок — это дочки дядьки Конона. Они подмигивают, зовут Марийку и, перебивая друг дружку, говорят ей, что вечером девчата будут венки пускать по реке. «Венки! — замирает у Марийки сердечко от предчувствия какого-то таинства. — Венки…»
2От каждой хаты — по огородам, мимо конопель, через светлые капустные ряды и сочную луговую траву — вьются и сбегают к реке тропинки. Только вечерние сумерки налились синей густотой, пошли вниз стайки девчат, а девчата в Сыровцах не умеют ходить без песни, это все равно если бы по весне молчал соловушка. Хлопцев не видно, пока одни девчата идут на зеленый бережок, и по всему приречью, на которое уже пала легкая прохлада, раздаются чистые девичьи голоса; каждая стайка ведет свою песню, как бы перекликаясь и споря, у кого красивей и напевней, и песни летят за тихую речку, за луговину, уходят вверх, к еще видному темному лесу, и, наверное, их слышно в далеких селах за лесом, а там тоже в этот вечер поют девчата: сегодня ж вечер их тайных надежд, а тайную надежду только и можно доверить песне, этой женской молитве, — она ответит и на боль, и на радость, она и встревожит, но и прольет в сердце тихий покой…